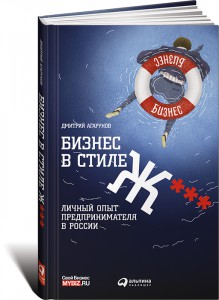Дмитрий Агарунов
издатель журнала «Свой Бизнес»
Мне в последнее время читать даже солидные российские СМИ стало неприятно. Репортажи о сжигании вражеских сыров и новости о возможном запрете голландских цветов, иногда еще и приправленные патриотическими лозунгами — не самая изысканная интеллектуальная пища. И если у меня есть выбор, что читать, смотреть и слушать, то у огромной части наших сограждан, привыкших получать информацию из официальных источников, этот выбор сильно ограничен.
Недавно я оценил масштаб промывки мозгов, когда встретился со своей тётей, с которой не виделся 30 лет. Первый вопрос, который я от нее услышал, был таким: «Дима, почему американские агрессоры ввели войска на Украину, зачем они убивают мирных жителей, почему не воюют с армией?». Я поинтересовался, откуда она почерпнула эти сведения, оказалось — из телевизора. При этом среди ее знакомых нет никого, кто пострадал от конфликта на Украине.
Мне кажется, эффект от пропагандистской кампании превзошел даже ожидания ее инициаторов. На этом фоне я восхищаюсь российскими предпринимателями, которые не стали чересчур политизированными, а продолжают фокусироваться на экономической ситуации и новых возможностях, которые она несет (я сужу по предпринимателям, с которыми встречаюсь лично — членам EO, слушателям моих выступлений, клиентам).
Обращаю внимание на мою статью «Три России». В нынешний кризис самые большие потери несет та прослойка российского общества, которую я назвал «Кувейтом». Те, кто обогащался за счет экспорта натуральных ресурсов, стремительно теряют доходы, начинают грызть друг друга, отставки следуют одна за другой (обострение борьбы между российскими «шейхами» я предсказал в статье «Запах девяностых»). А предприниматели, насыщающие внутренний рынок товарами и услугами («Швеция» в моей классификации), без паники адаптируют свои компании к новой реальности.
Новая реальность характеризуется тем, что производить в России стало выгоднее, чем импортировать — причем не вследствие законодательных запретов, создающих преференции местным игрокам, а по причине банального снижения себестоимости внутреннего производства. В некоторых отраслях российской промышленности издержки уже ниже, чем в Китае (особенно с учетом затрат на логистику). По этой же причине растет экспорт некоторых видов продукции (в основном с невысокой добавленной стоимостью), но выигрывает от этого не российский «Кувейт», а российская «Швеция» — предприимчивые люди с мозгами и энергией.
Текущую ситуацию уже сравнивают с девяностыми — тогда правительство обанкротилось, и предприниматели, включая меня, заново отстраивали экономику с нуля. Сегодня, как и в девяностых, предприниматели обходятся без кредитов, находят разные хитрые решения, и от этого бизнес становится лишь более эффективным и рациональным. А корень нынешней слабости правительства я вижу в том, что оно не зависит от граждан.
Правительство живет за счет доходов от продажи сырья, но не за счет массового налогоплательщика. Массовый налогоплательщик живет в своей параллельной вселенной. Пока доходы позволяли, правительство покупало лояльность граждан за деньги. Сейчас, когда пришлось затянуть пояса, нам напоминают о любви к Родине. На мой взгляд, любовь к Родине в данном случае означает любовь к правительству и молчаливое позволение правительству брать из бюджета столько денег, сколько оно пожелает, и на цели, которое сочтёт нужным.
Развитие кризиса, поразившего российский «Кувейт», может пойти по одному из трех сценариев. Первый, наиболее вероятный — де-факто банкротство правительства, вызов сегодняшней системе «покупки лояльности» и вынужденная либерализация экономики. Это не обязательно означает быстрое изменение законодательства. По опыту девяностых мы помним, что несовершенная нормативная база может компенсироваться слабым контролем за исполнением законов (а содержать армию силовиков обанкротившееся правительство не сможет). Если власть окажется умной, она будет выдавать действительное за желаемое и объявит экономические реформы. Однако для бизнеса имеет значение лишь то, какая система сложится де-факто.
Второй сценарий — глубокие реформы не откладывая, пока у государства еще есть финансовые резервы и кредит доверия. Возможно, я идеалист, но я не вижу, что власть теряет в том случае, если российский частный бизнес совершит резкий рывок. В конце концов, все слои общества заинтересованы в том, чтобы строить сильную страну. Высокий уровень доверия к правительству и мода на патриотизм — отличная основа для проведения плановых, управляемых реформ, в случае успеха которых доверие к правительству вырастет еще больше. Например, Ли Куан Ю в Сингапуре снискал народную любовь и уважение, оставаясь жестким руководителем, склонным к диктатуре.
Третий сценарий, о котором не хочется думать — власть утрачивает способность мыслить разумно, мы страдаем от диктатуры и охоты на ведьм. В любом случае это не может продолжаться долго, поскольку нынешним поколением россиян уже не удастся помыкать, как советскими гражданами. Люди не смогут отказаться от преимуществ, которые несет с собой экономическая свобода. Я не верю, что народ готов голодать и ходить в лохмотьях ради чиновников. Уверен, что правительство понимает, насколько опасна голодная озлобленная толпа, поэтому скорее ожидаю возврата в девяностые — но уже в цивилизованной форме, без того беспредела, который был вызван полной ломкой госаппарата и сменой системы ценностей.